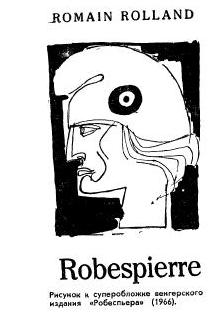
4
Первой работой, которую написал Роллан после возвращения из СССР — осенью 1935 года, — было введение к сборнику «Спутники». В эту книгу он включил литературные выступления разных лет: раннюю полемическую статью «Яд идеализма», направленную против декаданса, предисловие к «Уленшпигелю» Шарля де Костера, воспоминания о встрече с Ренаном, и еще воспоминания — о давнем друге, швейцарском поэте Шпиттелере, очерки о Шекспире, Гёте, Гюго, Толстом. Сборник завершался статьей «Ленин. Искусство и действие», впервые опубликованной в 1934 году.
Введение к «Спутникам» — своего рода исповедь. Продолжая, дополняя то, что было сказано в «Прощании с прошлым» и «Панораме», Роллан анализирует пути своего духовного развития с юных лет и до старости.
Здесь встают в серьезном философском контексте имена литературных героев, которых Роллан упоминал и в цитированном письме к Марселю Тетю, — Гамлета и Фортинбраса.
Над антитезой этих двух шекспировских характеров Роллан много размышлял еще в восемнадцатилетнем возрасте, — мы это знаем теперь и из «Воспоминаний юности». Он находил в этих характерах две разъединенные половины собственной мятущейся души. «Словно в выпуклом зеркале, узнавал я в этой трагедии свое отражение. Оно двоилось: я был и Гамлет, и Фортинбрас».
Гамлет обладает большой силой интеллекта, но мало способен к борьбе. Фортинбрас готов ринуться в бой, даже сам толком не зная зачем. Они предельно несхожи — и тяготеют друг к другу. Гамлет, умирая, подает свой голос за Фортинбраса, а тот велит похоронить датского принца с воинскими почестями.
В юности Роллан, симпатизируя Гамлету, был склонен считать, что будущее принадлежит именно таким, как Фортинбрас. Долгий жизненный опыт убедил его, что действие стихийное, бездумное столь же мало плодотворно, как и пассивно бездействующая мысль. За лучшее будущее человечества могут успешно бороться лишь люди осмысленного действия. Люди, способные принимать решения на основе трезвого знания реальности, и претворять достижения человеческого духа в практику — на благо народам.
Такой идеал деятеля Роллан нашел в Ленине.
Во введении к «Спутникам» Роллан дает сжатый очерк умственных поисков человечества за сто с лишним лет, — поисков, ведущих от Гёте и Гегеля к Марксу и Ленину.
«Единство субъекта и объекта, которое Гёте и Гегель искали в диалектическом развитии, осуществляется только в практической деятельности, только ею. Мышлению отводится задача направлять общественную деятельность, которая изменит действительность, — и таким образом, сам того не подозревая, Гёте приводит к Ленину. Мечта и действие подают друг другу руки».
Гёте приводит к Ленину. Роллан здесь близок к мысли, высказанной Лениным на III съезде комсомола: пролетарская культура — закономерное развитие тех знаний, тех духовных богатств, которые накопило человечество в прошедшие эпохи. В этом смысле естественно, что Ленин в книге Роллана завершает собою ряд великих мастеров культуры: тот ряд, в котором стоят Шекспир, Гёте, Гюго, Толстой.
Читая на протяжении многих лет работы Ленина, документы и воспоминания о нем, Роллан постепенно все лучше узнавал его — не только как политического деятеля, но и как живую, духовно многогранную личность. На Роллана произвело большое впечатление и то, как Владимир Ильич еще на заре века призывал русских революционеров — «Надо мечтать!»; и ленинский анализ творчества Толстого, проницательно истолкованного, как «зеркало русской революции»; и слова, сказанные Лениным в поддержку сатиры Маяковского; и засвидетельствованная Горьким любовь Ленина к бетховенской музыке...
«Весь арсенал ума, — пишет Роллан о Ленине, — искусство, литературу, науку — мобилизует он для действия, все, вплоть до самых стихийных порывов, до подсознательных глубин существа, вплоть до мечты».
В свете идей Ленина Роллан возвращался к проблеме, которая живо занимала его еще в раннюю пору творчества: художник и общество, искусство и народ.
«Искусство всегда участвует в битвах своего времени» — эта мысль отстаивается Ролланом и в книге «Спутника», и в несколько более ранней статье «О роли писателя в современном обществе».
обращаться художник — к «элите» знатоков, могущей оценить его мастерство, или к неподготовленной массе? По мнению Роллана, эта дилемма — ложная. Большое, настоящее искусство в конечном счете будет понято, должно быть понято массами. Важно, чтобы художник был одушевлен большой гуманистической идеей и не превращал «технику» в самоцель:
«Цель самого высокого искусства должна быть — обращаться одновременно и к элите, и к массам. Думаю, что старинные соборы или венецианские фрески неплохо справляются с этой задачей. Также и — великие полотна Рубенса. И еще — Самофракийская победа! И немалая часть греческих шедевров эпохи расцвета.
Могу вам поручиться, что большой портрет Троих Фарнезе, набросанный Тицианом, находящийся в Неаполитанском Музее, — может захватить человека с улицы не меньше, чем человека образованного.
Да, этот идеал вовсе не является неосуществимым.
Это можно подтвердить множеством примеров и из области изобразительных искусств, и из области литературы. Проблемы техники отравили искусство нашего времени (и литературу, и живопись): надо было пройти через этот этап; но теперь настало время шагнуть дальше, и писать, и рисовать среди людей, вместе с людьми и ради людей. А люди — это я, это ты — в более крупном, более широком, более полном смысле» *.
— тот, кому была посвящена драма «Четырнадцатое июля», — признает ли он его, Роллана, своим человеком? Своим писателем?
Большие радости доставило Роллану его семидесятилетие, исполнившееся 29 января 1936 года. Он провел этот день в Вильневе, в кругу близких и получил невиданное множество приветствий и поздравлений из разных стран.
«Как вы можете себе представить, из всех посланий самые «любовные» были из СССР (я вполне могу сказать это слово); они дышали таким теплом, что могли растопить снег.
Сколько писем от простых людей, которых я никогда не видел и никогда не увижу и которые нам ближе родных! Многие из них наивно повторяют: «Ромен Роллан, отчего вы не живете у нас?» (Они близки к тому, чтобы сказать: не только в СССР, но и в той местности, где они живут...) «Вы наш. Вы нам принадлежите...»
«Нет, ты мой!..» И это та страна, где я родился! Впервые предъявляет она свои права на меня в таком духе! Народное празднество, устроенное в мою честь 31 января в Париже, приняло такие масштабы и было проникнуто таким подъемом, что даже те, которые его организовывали, были сами прежде всего удивлены. Впервые у нас (второй раз — если считать пышные похороны Барбюса) народ Парижа демонстрировал единство духа и мысли с писателями. Кастовые барьеры были разрушены. Это было поистине новое явление! Празднование в мою честь было не чем иным, как поводом для мощного события, которое подготовлялось в течение двух лет, — с той поры, как интеллигенция Франции решилась, наконец, примкнуть к движению масс и образовать общий фронт против общего врага. Как бы то ни было, в этот вечер (до меня донесся лишь отголосок его издалека) я пожал все, что посеял в надежде на этот народ, которому я посвятил мое «14 июля» тридцать лет тому назад. И зто мне доставило больше радости, нежели одобрение моих французских собратьев».
Весна 1936 года была счастливой не только для Роллана, но и для антифашистов всего мира. Выборы в Испании в феврале, а затем выборы во Франции в апреле—мае принесли победу Народному фронту. По всей Европе повеяло воздухом свободы.
Театры, радиостанции, даже киностудии в разных странах заинтересовались революционными пьесами Роллана. Парижский театр «Альгамбра» назначил на 14 июля премьеру «Четырнадцатое июля». Тут уж писатель не выдержал: он приехал в Париж, пошел на спектакль, пренебрегая всеми врачебными запретами. Пусть новая постановка и показалась ему менее смелой, менее значительной, чем та, какая была осуществлена Фирменом Жемье три с лишним десятилетия назад, — отраден был сам факт, что пьеса вернулась на парижскую сцену. Роллан аплодировал актерам, одобрил музыкальное сопровождение, с интересом рассматривал занавес, выполненный по оригинальному рисунку Пикассо.
17 июля Роллан написал Стефану Цвейгу. Ему не просто хотелось рассказать о своем сценическом успехе, — была потребность в такой момент поделиться мыслями о времени и о себе.
«Нет, я не один, не одинок, как вы мне пишете. Я, напротив, чувствую себя окруженным дружбой миллионов людей из разных стран, и я возвращаю им эту дружбу. Не проходит и дня, чтобы она не доходила до меня горячим дыханием любви и доверия. Я объявляю себя солидарным с этой молодежью — я ежедневно могу оценить ее великодушие и преданность справедливым и гуманным делам. Время Клерамбо прошло. Такие, как Клерамбо, были последним прибежищем духа, наперекор безнадежности старого мира. Но теперь надежда явилась вместе с верой и энергией молодого, нового мира и благодаря ему. Мне не нужно больше, чтобы спасти свою свободу, запираться у себя в комнате. Сбываются слова Фауста: свободы достоин тот, кто каждый день, на разных полях земли, идет за нее на бой».
«собственной лавочкой», и добавляет:
«Вот почему смерть Горького — такой жестокий удар для меня. Ибо я чувствовал себя кровно связанным с этим большим художником, чуждым всякой литературщине; вся ею сила была в его глазах и честном, искреннем сердце. Это громадная потеря для СССР и всею мира» *.
Смерть Горького — не единственное, что омрачано для Роллана эту радостную для него пору. Верно, антифашистское движение в Европе было на подъеме, оно достигло ощутимых успехов, но политическая обстановка продолжала оставаться тревожной.
Весной 1936 года гитлеровская Германия, попирая международные соглашения, ввела войска в Рейнскую область. А в августе того же года Франко поднял мятеж против республиканского правительства, законно избранного народом Испании.
Судьба Испании взволновала Роллана до глубины души. Он был убежден, что Франция обязана помочь южному соседу, помочь действенно — продовольствием, деньгами, оружием. Ведь прав Кола Брюньон: «Лучший способ стеречь свой дом — это защищать чужой!» Роллана удручала подлая политика «невмешательства», проводившаяся западными державами: кабинет Леона Влюма не оправдывал надежд французских избирателей, голосовавших за Народный фронт.
«Демократия в опасности! Мир Франции в опасности!» В его Архиве сохранилась почетная грамота — «Благодетелю республиканской Испании», подписанная Долорес Ибаррури и Альваресом дель Ваио: борцы за свободу Испании ценили его поддержку. Но самотверженные усилия антифашистов разных стран — включая и писателей разных стран — не могли предотвратить надвигавшейся трагедии.
У Роллана были и другие основания для тревоги.
Его связи с советскими писателями, с различными общественными организациями СССР после смерти Горького стали постепенно ослабевать. Он иной раз вовсе не получал ответа на свои письма, ходатайства, запросы. В дневнике за октябрь 1936 года он с горечью писал о том, как недостаток информации затрудняет его работу, мешает давать отпор «бешеной клевете врагов СССР». А потребность в таком отпоре, конечно, была.
Осенью 1936 года мировая печать подняла шум вокруг книжки Андре Жида «Возвращение из СССР». Андре Жид, крупный французский прозаик, признанный апостол аристократического индивидуализма, на время примкнул к антифашистскому движению, выступал на митингах, объявил себя другом СССР. После короткой поездки в Советский Союз он поспешил опубликовать свои впечатления. Они были неблагоприятны, и реакционная пресса возликовала: вот и еще один откололся от большевиков!
Андре Жид проехал в сопровождении переводчика по традиционному туристскому маршруту — из Москвы на Кавказ — и воспринял все, что ему показали, с высокомерием заезжей знаменитости. Ни до приезда в СССР, ни во время пребывания там у него не завязалось живых контактов с советскими людьми, — они не вызвали в нем интереса, показались примитивными и во всем одинаковыми. Ему бросилось в глаза то, что мог в первую очередь заметить чужестранец: скромный, на западный масштаб, жизненный уровень, однообразные лозунги и плакаты с портретами Сталина. А то, что привлекало Роллана, — бескорыстный энтузиазм советских людей, их страсть к знаниям, преданность делу социализма, их самоотверженный труд, меняющий лицо страны, — всего этого Андре Жид не смог понять и не пожелал увидеть.
«Юманите» в январе 1937 года. Еще раньше — 9 декабря 1936 года — он писал Стефану Цвейгу:
«Не разделяю вашего удовлетворения брошюрой Жида. Я ее нахожу удручающей. Особенно для него самого. Дело не только в том, что его выступление в настоящий момент — дурной поступок: он понимал лучше, чем кто-либо, как им воспользуются все бешеные псы фашизма и реакции. Но и когда он гладит, и когда он царапает, — он лишь слегка задевает кожу: все это поверхностно до смешного, — все это типичные впечатления литературного вельможи (а был ли он когда-нибудь чем-либо иным?). Ничего он не увидел, ничего не постарался увидеть как следует. Во всей его мелочной злости очень ясно чувствуется мелочная обида литератора, ущемленного в своем мелочном тщеславии, — начальство, изволите видеть, приняло его прохладно (так ему и надо!»).
Далее Роллан, отвечая Цвейгу, затрагивает тему намного более сложную:
«Что до московского процесса, о котором Жид не говорит и который гораздо важнее, чем все то, чем он занимает своих читателей, — вы об этом судите односторонне. Я не могу сообщить вам в письме все, что мне известно по этому вопросу.
«Не спрашивайте меня больше ни о чем в данный момент!» *
— и объяснить другим — то, что было неясно ему самому. Это чувство неловкости нарастало у него в течение последующих двух лет.
События 1936—1938 годов вызвали резкое расслоение среди западных деятелей культуры. Неустойчивые люди спешили отвернуться от СССР и отходили вправо — в стан антикоммунизма. Действительно большие, передовые художники Запада, оставаясь друзьями Советского Союза, мучительно размышляли, стараясь понять: что же происходит?
При всей остроте переживаний, омрачивших в эти годы жизнь Роллана, при всей глубине горечи, которая накоплялась в нем, он оставался вернейшим другом Советского Союза. Он дал для советской печати краткие статьи — приветствия к 20-й, а потом и к 21-й годовщине Октябрьской революции. «Только интернациональный социализм может спасти и спасет человечество»: в этом Роллан был убежден, и этим определялось его отношение к первой стране социализма.
Именно в эти годы Роллан постепенно становился ближе к французским коммунистам, встречался и беседовал с Кашеном, Торезом, Фрашоном. Он послал дружеские обращения конференциям Французской коммунистической партии в 1937 и 1939 годах.
Мало-помалу у Роллана созревало решение уехать из Швейцарии. Жить в Вильневе становилось неприятно, — местные власти смотрели косо на антифашистскую деятельность писателя, иностранная пресса, необходимая ему для работы, доставлялась с большими перебоями, у него были сильные подозрения, что и его личная переписка подвергается контролю. Вместе с тем он чувствовал, что нужен своей стране — именно теперь. В декабре 1937 года он сообщил своему японскому корреспонденту Тосихико Катаяма: «Я решился, не без труда, оставить Швейцарию, потому что больше не могу дышать там свободно: она поддалась заразе «коричневой» или «черной» чумы. Мое место — во Франции Народного Фронта, тем более, что она под угрозой» *.
— маленький городок, расположенный недалеко от Кламси, на возвышенности, постоянно овеваемой ветрами, среди полей и виноградников. Там ему легко дышалось, и он надеялся, что сможет работать без помех.
О своем переезде он с оттенком юмора рассказал Стефану Цвейгу в письме от 24 июня 1938 года:
«Мы уже дней пятнадцать как переселились — не без труда, но без повреждений. Пока устроимся, пройдет еще немало недель.
Не столь легкое дело — перетащить через Юрский хребет 80 ящиков книг и бумаг, не говоря уже о других вещах, о людях, пяти кошках и большой собаке!.. Дом нас не разочаровал. Единственный его недостаток — что он слишком мал, чтобы принимать там друзей. Но есть хорошая гостиница поблизости. Особенно прелестен сад. Даже в самые жаркие дни он дает достаточно тени; там чудесная липовая аллея, а над ней розарий. Кругом расстилается широкий горизонт.
Весь этот край для меня полон воспоминаний. Я ездил в мой милый Кламси (20 минут на машине); еще ближе — деревня Брев, где спят мои предки с отцовской стороны (Боньяр, апостол свободы) и где непрерывно бродит тень Кола Брюньона. Он хорошо знаком местным жителям, многие говорили со мной о нем...» *
— своего рода музей: его история связана с крестовыми походами, его главная достопримечательность, церковь Св. Мадлены, — выдающийся памятник романо-готической архитектуры. Каждое воскресенье сюда устремлялся поток туристов. Площадь перед гостиницей заполнялась машинами; стайки экскурсантов растекались по узеньким улочкам, осматривали церковь, поднимались на башню, любовались видом на окрестности; в ресторанчике «Отдых крестоносца» целый день толпились посетители; лавочки и ларьки бойко торговали местными сувенирами — значками, открытками, статуэтками святых, керамической посудой, покрытой ярко-зеленой или малиновой глазурью с золотистым отливом... А в будни царила благословенная тишина. Можно было и посидеть над рукописью, и отдохнуть в саду, и пройтись по «шмен-де-ронд» — круговой дороге вдоль старинной городской стены, и побеседовать с друзьями, которые хоть изредка, да приезжали: двести двадцать километров от Парижа — не такое уж большое расстояние.
А в мире становилось все тревожнее.
В последних числах сентября 1938 года — незадолго до пресловутого Мюнхенского соглашения — группа учителей обратилась к Роллану с просьбой подписать манифест против войны. Документ этот был очень расплывчат по содержанию, но Роллан не решился отказать учителям и дал свою подпись. Манифест появился в печати уже после того, как Мюнхенское соглашение стало фактом. Подпись Роллана вызвала немало кривотолков: неужели прославленный писатель-антифашист одобряет постыдный сговор западных держав с Гитлером?
Федерация профсоюзов департамента Луары (входящих в ВКТ — Всеобщую конфедерацию труда) послала в Везеле недоумевающее письмо, и Роллап ответил:
«Дорогие товарищи,
Но если противники ВКТ и коммунистической партии ссылаются на меня — это нечестно. Я сохраняю верность ВКТ и Французской коммунистической партии, которые всегда энергично боролись против войны.
Если все мы любим мир и хотим мира, — мы вместе с тем считаем, что Мюнхенское соглашение — это унизительная капитуляция, которая дает новое оружие врагам Франции» *.
Еще до того как Мюнхенское соглашение было подписано, 23 сентября, Роллан дал интервью Франсуа Вогаду, корреспонденту газеты «Курье де ля Ньевр», выходившей в Кламси. Это интервью появилось в газете 10 октября:
«Я считаю, что коммунизм — наиболее последовательное, мощное и эффективное проявление действующих ныне социалистических сил. И я считаю, что он в будущем распространится на все страны».
«... Самое важное, с чем надо считаться в первую очередь, — это непрерывное экономическое и социальное развитие громадного народа Советских Республик. СССР стремится к миру, который создает ему благоприятные условия для дальнейшего подъема. Но он готов ко всяческим неожиданностям. Его огромные военные силы и пламенная вера, одушевляющая его молодые поколения, дадут ему возможность противостоять любым коалициям».
— быть бдительным по отношению к международному фашизму.
После Мюнхена Роллан с возрастающей тревогой следил за судьбами Чехословакии. Он выразил дружеские чувства к чехословацкому народу и осудил предательство «малодушных и беспринципных руководителей западных демократий» в письме на имя президента Эдуарда Бенеша 7 октября 1938 года.
Вскоре после того как Мюнхенское соглашение стало фактом, «Женский союз экономического возрождения Чехословакии» обратился к Роллану за помощью. Стало известно, что французское правительство намерено уменьшить импорт из Чехословакии; авторы письма просили Роллана ходатайствовать, чтобы это намерение не осуществилось, иначе разорение их страны пойдет еще более ускоренным ходом.
В ответе Роллана чехословацким женщинам чувствуется искренняя душевная боль:
«Сударыни,
Я — один из тех многочисленных французов, которые восприняли Мюнхен как горе и позор. Я всегда был преданным другом Чехословакии... Вы не можете сомневаться в чувствах глубокой симпатии, с которыми я отношусь к вам; я перешлю ваше письмо г-ну президенту Эррио. Но я, к сожалению, не имею никакого влияния на французское правительство. Помимо того — позвольте объяснить вам, в чем трагическая сложность ныпешнего положения. Чехословакия утратила свою независимость. Для каждого француза это повод к тому, чтобы испытывать угрызения совести. И вместе с тем для Франции в целом это — опасность: и наши государственные деятели не могут не остерегаться — как бы помощь, предназначенная для Чехословакии, не обернулась потом оружием против Франции. Как выйти из этой дилеммы? И сможет ли французское правительство контролировать дальнейший ход событий?..» *
После того как Чехословакия в марте 1939 года была оккупирована гитлеровцами, Роллан опубликовал в «Эроп» статью «Траур над Европой», полную скорби и гнева.
Роллан и в это трудное время по-прежнему упорно, планомерно занимался писательской работой и, как обычно, поддерживал связь с многочисленными корреспондентами, в том числе и с молодыми литераторами, которые искали у него помощи.
Марсель Тетю, ставший преподавателем коллежа в Мелэне, пробовал свои силы в области художественной прозы. Он обратился к Роллану за советом — как организовать свой творческий труд'
«Вы спрашиваете, на основе каких правил можно управлять собой в процессе писанья. Самое главное — ковать железо, пока горячо, — перечитывать вечером то, что вы написали утром, и перечитывать опять на следующее утро, не приостанавливая порыв рассказа, но поддерживая его, сохраняя его единство и тональность. Когда произведение (или определенная часть произведения) будет закончено, отложите его, с тем чтобы оно совсем от вас отделилось. Когда наступит подходящий момент — возьмитесь за него опять и перечитайте его свежими глазами, залпом, как бы паря над ним сверху. Но остерегайтесь, как бы не впасть при этом в чрезмерную суровость! Бывает и такая, вполне естественная, инстинктивная реакция. Если вы ей поддаетесь — пусть рукопись полежит еще немного! Только последующий, окончательный просмотр может быть справедливым и объективным.
Если вы находите в моих произведениях определенную уравновешенность, соблюдаемую даже в страсти, — это значит лишь, что я немало бил молотом но наковальне, обуздывая страсть. Всю жизнь я ее обуздывал. А если это мне иной раз не удавалось (в статьях, которые слишком поспешно вышли из-под пера) — то я не достигал уравновешенности и потом вынужден был строго критиковать себя за это.
Художественное творчество — замечательная школа самообладания. Даже если единственное, чего удается достигнуть, это умение управлять своими внутренними силами, это само по себе — один из прекраснейших трофеев, вырванных у жизни. Тех, кто этого добился, можно по пальцам пересчитать» *.
В Везеле Роллан закончил работу, которая была задумана еще очень давно — еще в начале столетия, — драму «Робеспьер». Она была опубликована в 1939 году—к 150-летнему юбилею Французской революции.
в борьбе против фашистского мракобесия. Роллан написал к юбилею небольшой исторический очерк «Вальми».
В пьесе Роллана «Робеспьер» отразились его многолетние размышления над острыми вопросами истории и современности. Ему хотелось исследовать, уяснить самому себе те внутренние законы, которые движут большими социальными переворотами. Конечно, можно было бы создать к памятной дате еще один радостный сценический апофеоз наподобие «Четырнадцатого июля». Но драматург пошел гораздо более трудным путем — показал революцию не в дни торжества, а в дни поражения.
В «Робеспьере» нет никакой нарочитой модернизации прошлого. Более того: в этой монументальной трагедии-хронике Роллан больше, чем во всех прежних своих драмах, верен исторической правде. Образ революции, овеянный величественной и суровой поэзией, нарисован густыми рембрандтовскими красками, с резкими контрастами светотени. Французская революция раскрывается здесь не как взрыв роковых «коллективных страстей», а в своей действительно сложной сути: как могучее народное движение, имевшее всемирно-исторический смысл, и вместе с тем как буржуазный переворот, который по объективным условиям эпохи не мог осуществить своих гуманистических лозунгов.
«Для того ли Революция отняла привилегии у знати, чтобы даровать привилегии богатству?» — спрашивает Сен-Жюст. Деятели якобинской диктатуры рисуются Ролланом как люди, искренне преданные народу, желающие дать ему обещанное благоденствие. Но Робеспьер, готовый согласиться с требованием Сен-Жюста об изъятии награбленного имущества у буржуа, вынужден считаться с реальной силой этих буржуа: ведь в их руках и торговля и кредит, от них зависит снабжение войска. Старая крестьянка, которую случайно встретил Робеспьер, горько упрекает его: «Теперь пошли новые богачи. А бедняки так и остались бедняками». И Неподкупный смущен, ему нечего возразить...
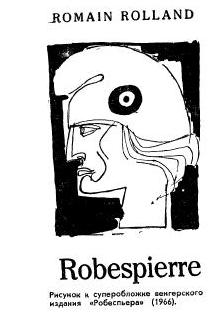
Революция должна защищаться от своих врагов, она обязана быть сильной, а когда нужно, и беспощадной; в прежних пьесах Роллана эта мысль была заявлена лишь в самой общей, декларативной форме, она не подкреплялась, а то и опровергалась логикою действия. В «Робеспьере» эта истина утверждается всем ходом событии — наглядно и неопровержимо. Драматург передает адскую напряженность обстановки, в которой приходилось действовать Робеспьеру и его ближайшим сподвижникам. Молодая республика находится в непрерывной острой опасности, ее существованию угрожают и уцелевшие остатки старой аристократии и соседние монархические державы. Политика всепрощения в таких условиях была бы гибельной.
Анализируя с суровой трезвостью сильные и слабые стороны якобинцев, Роллан не сомневается и не дает читателю усомниться в величии революции и бессмертии ее дела. Робеспьер и Сен-Жюст идут на смерть с сознанием своей исторической правоты. Борьба человечества за счастливое будущее проходит через тяжелые кризисы, сопряжена с громадными трудностями, жертвами. Но эта борьба продолжается. Таков закон истории.
Роллан обрадовался, когда получил в марте 1939 года один из первых читательских откликов на новую драму — письмо от Стефана Цвейга. Австрийский писатель, сколь ни был он далек от революционных симпатий, сумел почувствовать не только трагедийность «Робеспьера», но и его жизнеутверждающий дух:
«То новое, что вы дали современному театру, заключено в финале. Я всегда чувствовал, что историческая драма в какой-то мере мертва, если не удается оживить ее идеей. В двух последних сценах прежние узкие рамки разбиты; чувствуется воздух нашего времени и большой поток нашей жизни. Это вам превосходно удалось: пьеса не оставляет ощущения, что речь идет о поражении революции. Мы должны чувствовать и чувствуем, что этот человек — одна из жертв на пути, но что сам путь не закрыт» *.
Еще до выхода «Робеспьера» отдельной книгой, осенью 1938 года, Роллан прочитал его в кругу литераторов п театральных деятелей, в доме писателя Рене Аркоса; читал необычайно увлеченно, как вспоминал потом Аркос, — три часа без перерыва, не выпив и глотка воды. Пьеса была принята для исполнения по радио.
«Думаю, не ошибусь, — писал он А. Сеше, — что это — самая важная часть моего цикла о Революции Единственное, что говорит против нее, — это размеры. Но это, как мне кажется, вещь очень волнующая, и в драматическом и в человеческом смысле». Для исполнения «Робеспьера» в театре Роллан - обычно нетерпимый ко всякого рода купюрам - был готов сделать сокращения в некоторых слишком пространных диалогах.
Пятого июля 1939 года состоялась премьера другой его драмы, «Игры любви и смерти», в «Комеди Франсез». Она прошла с успехом. Роллан с грустной иронией вспоминал о честолюбивой мечте своей молодости — увидеть хотя бы одну из своих пьес на подмостках старейшего национального театра. Вот эта мечта и осуществилась — почти полвека спустя!
Теперь ему хотелось добиться постановки «Робеспьера» в Париже. Хотелось, но не удалось.
Тучи новой войны сгущались над Францией — и над всем миром.